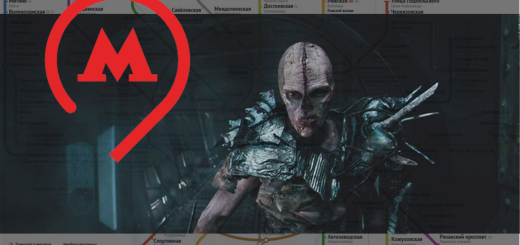Все видят, что это за май – выданная миллионам людей неслыханная премия за бесконечную серость, ужасающая своей щедростью. Наверное, затаивший дыхание в ожидании тринадцатой зарплаты маленький инженер совсем перестает дышать, когда вместо ожидаемого получает новогодний бонус большого человека из Транснефти. Случись такое, он бы сошел с ума от счастья, располовиненного с жутким страхом несусветного подвоха, не быть которого во всем этом просто не может.
Я не помню поворотов, на которых поездка становилась всё лучше и лучше, этот параболический подъем был плавным, но от этого не менее крутым. Вообще я думал, что Ренат позвонит в пятницу и скажет: «Съездим в другой раз». Вместо этого он позвонил и сказал быть на Бабушкиноской без опозданий.
Мы все боролись со снобизмом
Ньютону для открытия гравитации понадобились плодоовощи, вейсманистам-морганистам для постулирования генетических принципов – горох, дрозофилы и колхицин, нам хватило просто встретится, чтобы понять, что у нас троих – инфекционный снобизм. Большое видится на расстоянии, снобизм же, как дьявол, прячется в мелочах. Как мелкий песок, он начинает хрустеть на зубах в самые неожиданные моменты. Ополаскиваешь рот и достаешь платок, а вместе с ним из карманов вылетает облако снобической пыли. Камешками в ботинках и тополиным пухом в носу снобизм преследует нас повсюду. Откуда это? Это явно приобретенное.
Объявленный незамедлительно по обнаружении месячник борьбы со снобизмом принес неожиданные и быстрые результаты: истребляемый снобизм проявляет свойства пробиваемого пулей кевларового бронежилета, который становится тем плотнее и жестче, чем выше скорость пули. Продолжение воздействия приводит к снобо-взрыву страшной бризантности, жертвой которого могут стать юридически невинные люди. Например толстые бабищи, которые пропихиваются сквозь ваш столик с целью сфотографироваться на фоне выставленного в окне манекена. Советы по фотографированию (дельные) отметаются ими по умолчанию, а вот робкие извинения за наш необузданный аппетит, который может помешать их фотосессии, раскручивают в их угрюмых сердцах тяжелый маховик «обратки»:
— Мы, конечно, извиняемся… что помешали… но у нас времени нет… транспорт. Так что.. надеемся… что ваш сарказм останется при вас…
Ну что тут скажешь? Действительно – время и транспорт – две вещи, которыми можно оправдать многое, даже убийство. Например так:
— Подсудимый, за что вы грохнули бабульку?
— Время и транспорт!
— Невиновен! – Бумк!
Барин приехал
— Что случилось?
— Барин приехал!
— Какой барин?
— Почитай целый год ждали, вот какой барин!
Говорят, что цыгане встречали приезжающих в Кострому до 1978 года, потом у них не то от старости, не то от цирроза печени умер медведь и вместо криков «Барин приехал!» они стали кричать «Бросай всё на пол: деньги — направо, документы, детекторные приемники и прочий мусор – в Волгу!» Вакханалию прекратили и теперь на въезде в город стоит будка, а в ней стоит милиционер. Перед милиционером стоит задача: объяснять приезжим как проехать на улицу Нижняя Дебря, 104 и следить, чтоб не завелись цыгане и медведи.
Мы притормозили у будки и изготовившийся к встрече милиционер уже хотел было крикнуть «Здрасти, добро пожаловать в жемчужину Волги – город Кострому, воспетый…», но Галя опустила стекло и высунула локоть. Милиционер забыл автора панегирика и даже вышел от волнения на свежий воздух. Еще издали он стал показывать направление и объяснять повороты. Вот если бы дорогу спросил я, мне пришлось бы протирать очки, а то и вовсе покупать новые, а вот с Галей всё не так, она узнает всё нужное при помощи одной вежливости. Так что всю дальнейшую информацию из окружающих извлекала она.
Город, привыкший к мирной жизни после ухода цыган, медведей и почтмейстеров-душегубцев, мирно спал как институт благородных девиц за день до революции. Только в нашей гостинице не гасло окошко и тетенька-портье до боли в глазах всматривалась в темноту, тревожно глядела на часы и, покусывая носовой платок, пыталась забыться чтением. Было далеко за полночь, когда взятая в гостиничной библиотеке «Майская ночь или утопленница» выпала из ее усталых рук, потому что стремительный как ветер, я пробежал по темной парковке и взлетел по мраморной лестнице:
— Ну здравствуй, это я!
Он почти не владела собой и чтобы скрыть подступающие слезы радости, подсунула нам анкеты и заставила заполнить все-все графы, включая «Гознак, 1962, тираж 15 млн. экз».
Номер был сказочный: окна на Волгу, кровать размером с Одинцово, лампы и прочая гжель. Прилетевший поздороваться комар увидел лежащий на тумбочке заряженный фумигатор и, опрокидывая стулья, выбежал в окно. Романтика одинокой ночевки несет ряд преимуществ, среди которых: свобода стирать носки и спать на кровати, раскинувшись как море – ширОко.
В окно пахло Волгой, соловьи выводили «Под лаской плющевого пледа», я послушал минут пять и вырубился.
Островскый
На следующее утро, снобски позавтракав в отеле, мы стояли в будке Островского и как Наполеон Москву оглядывали Кострому, прикидывая, с какого конца удобнее начать ее грабить. Концов города из будки видно не было и вообще весь вид представлял собой начало первого действия «Бесприданницы», как-то: набережная большого города Бряхимова. Положенная по сюжету кофейня имелась чуть поодаль.

Через три часа прогулок мы мастерски расправились с экскурсионной программой, сделав визит в музей зодчества и Ипатьевскую обитель.
В зодчестве паслись невозможные лошади – две молодые кобылки-четырехлетки, красивые как черт знает что, серая и черная. Звались сии ангелы Дюймовочка и Снежинка, вели себя независимо и с завидным аппетитом предавались чревоугодию, создавая при этом значительный хруст. Ничего кроме травы этим штукам в жизни было не нужно, но грубить Гале не способны были даже они, покорно снося лившуюся на них нежность. Из рассказа их хозяина я запомнил, что в отличие от Москвы, где ипподром находится на Беговой, в Костроме оный стоит на Проспекте Мира. Логично предположить, что на Беговой в Костроме – спорткомплекс Олимпийскый.

Погруженные в мысли о географии, лошадях и медовухе, мы покинули музей, который постепенно стал заполняться ордами школьников и брачующихся, одинаково любых нашим снобским сердцам, особенно сердцу Рената.
Должен сообщить, что Ипатьевская обитель находится на расстоянии полета шмеля от деревянного музея, а над входом в нее горит масонская дельта, которая смутила меня еще в прошлый мой приезд. Я поделился своими сомнениями с товарищами, на что Ренат, назвав меня жертвой пропаганды, попросил уточнить – что конкретно я имею против масонов? Я прикинул что у меня в рюкзаке и вынужден был сообщить, что — ничего, кроме нежелания видеть их клейма на церквях и тайного присутствия где бы то ни было.
— Ничего, кроме образования, науки и кучи благ миру они не принесли!
— Вот прям тут ничего подозрительным не кажется?
— Ну кажется, не кажется, а от них – сплошная хорошесть, да марципаны. Учили всех да образовывали.
— Раньше они учили есть картошку вместо брюквы, а завтра скажут, что очкарики – плесень нации или что рыжим не видать царствия небесного. И решат они это как-то сами, и внедрять будут тоже без официальных публикаций в Российской газете.
Ренат считает меня упертым зомби и я стараюсь его не подвести.

В Троицком соборном храме пахнет ладаном, ведутся ли там службы – неизвестно, известно лишь, что по субботам, когда в него набивается побольше туристов, там моют пол. В России всегда моют пол, сказал Ренат. Готов с этим согласиться, — работа дворника не будет заметна, если не будет видно ни дворника, ни грязи. Поэтому в Москве дворники выходят на работу как и все нормальные люди – в 8:30 и весело осыпают прохожих грязью и про себя – матюками. Для сравнения: в Балаково килограмм гречки – 11 рублей и дворника увидеть труднее, чем парад планет.
Икон в храме много, попов – нет совсем. Монастырь управляется одновременно местным (Костромским) культурным департаментом и РПЦ. Либо такой двоякый статус не дает возможности для духовного подвижничества, либо все попы дрыхли по кельям потому что тихий час. Считаю уважительными обе причины. Попы дрыхнут по кельям, масоны рисуют над входами свои дельты, а администрация продает билеты и все довольны.
Потом было еще интереснее. В Романовских палатах, набитых печками с изразцами, стали свидетелями следующего.
— Вот тут вы видите икону, вон там – портрет Михаила Федоровича, вот тут – евойная мамка монахиня Марфа, а эвона вот – грамота нашего премьер-министра, Владимира Владимировича Путина, в которой он говорит… бла-бла-бла… В этом углу экспозиции (не облокачивайтесь на стекло, а то сработает сигнализация) – грамота нашего президента Медведева Лжедмитрия Онотолиевича… Как правильно заметил в своей речи… Как верно подчеркнул во время своего визита…
Всё. Приехали. Как правильно отметил генерал-майор религиозной службы, первый заместитель Главкомписа по духовному окормлению отец Звездоний: «Это и есть Иисус Христос. Но мы поклоняемся ему не как какому-то там сыну Божьему, а как первому коммунисту, великому предшественнику нашего Гениалиссимуса, о котором Христос правильно когда-то сказал: "Но идущий за мною сильнее меня!"»
Т.е. вы понимаете – от нашего снобизма в палатах стало жарко и темно как ночью и, чтобы люди не порасшибали лбами изразцы на печах и хрустальные колбы с грамотами, мы поспешно сбежали с высокого крыльца, как когда-то Михал Федорович, сбежал по нему же в цари.
Левее!
— Ну что, Лариса Дмитриевна, обгоним
«Святую Ольгу»?
— Обгоним!
— Только надо сигнал дать! Ну-ка! Два коротких…раз, два и длинный.
…
— Егор! Давай, бери штурвал! Все! Это дело мужское.
…
— Кузьмич, милый, мы их обогнали. Спасибо.
— Это для нас пустяки, барышня!
.
Пилотов болидов воспитывают с пеленок, истребителей – с восемнадцати лет и до самой смерти.
Между фразами: «Ну что, Ярыч, сядешь за руль?» и «Ну что ж, Ярыч, садись за руль» прошло менее десяти минут. Казалось, Ренат был спокоен как Сфинкс, я же мысленно впал в быструю медитацию, чтоб привести мысли в порядок и смириться с упавшим на меня огромным счастьем порулить красивой машинкой.
Машина стояла на ярмарке фигни возле Ипатьевского монастыря и, слушая инструкции Рената, я в веселом безумии ждал, как я нажму на педаль этой ракеты и в радиусе пятидесяти метров останутся обрывки льна, старые монеты, ворох крыльев деревянных птиц и одна фотокамера с объективом-гармошкой. Печальный набат с монастыря разольется над разразившимся катаклизмом и поплывёт по Костроме да по Волге, рождая в народе печальные бурлацкие песни о лютом очкастом разбойнике-мордвине и заставляя полоскающих бельё баб утирать слёзы мокрыми навволочками.
Счастью и восторгу моему не было предела, когда я поехал. Сначала я оставил в живых всю ярмарку, затем спас автобус с немцами, после этого я лихо пропустил пару поворотов, развернулся и с криком: «Я рулю, гром и молния!!!» — проехал по мосту над рекой Костромой. Сердце билось как V-образный двигатель, ровно и быстро, приходилось стискивать зубы, чтоб его гул не заглушал подсказки ребят:
— Левее. Ярыч, левее. Так, хорошо. Левее. Ярыч! Ты прижимаешься.
Легко им говорить и легко ехать «левее» на пустой дороге, но на мосту на тебя несется всякое и проносится в страшной близости. По городу ехать стало труднее, отвлекали светофоры, троллейбусы и зеркала.
— Левее, Ярыч!!! – Галин боевой клич сделал-таки меня радикал-коммунистом, но зато сохранил нам правую фару, а маршрутке — задний фонарь. Будь там «Святая Ольга» — точно осталась бы без левого гребного колеса, не поручусь также за кают-компанию.
Всё же я благополучно припарковался и мы пошли покупать в универмаге «Жестокий романс».
Если взять портовые весы и вывалить на них поочередно спокойствие Рената и Сфинкса, то у пирамид может оказаться новый страж: хладнокровный и непробиваемый хранитель времени и ключей от серой «хонды-легенды». А Кострома останется навеки в моем сердце как город, где я рулил.