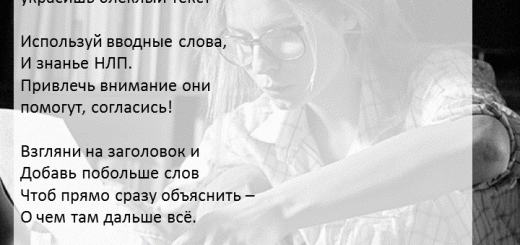Праздный образ жизни толкает
человека на крайности и излишества. Человек начинает ходить на спектакли как
уток стрелять – дуплетами. Он стремится к прекрасному и неизведанному, качает с
торрентов десятки гигов «культовых» картин, до которых не мог дотянуться ранее.
В результате — разлив жёлчи и смех иностранных разведок.
Некоторые образчики признанного и
награжденного творчества представляются мне если не вредными, то просто
тягостными, ненужными и болезненными как завинчивание шурупа в собственную
ляжку. До такой степени, что даже дегенеративная эстетика Ерофеева на их фоне –
блистательна и оправданна.
С Ерофеева, собственно, в этот
раз и понеслось. Ерофеева давали в учебном театре ГИТИСа. Академические коридоры заведения
украшены сетчатыми кроватями без матрацев, на которых в живописных позах и
широких штанах валяются волосатые юноши, из-за раскрытых книг оценивающие
производимый ими эффект. Несмотря на юношей, «Москва – Петушки» тут хороши
настолько, что юные и слабые на голову девушки в зрительном зале прощаются с остатками
рассудка и их приходиться просить гоготать потише. Что-то подсказывает, что
гоготуньи – из тех, которых автор настойчиво просил пропустить главу «Серп и
молот – Карачарово» не читая, поскольку за фразой «и немедленно выпил» следует
полторы страницы чистейшего мата, а во всей этой главе нет ни единого
цензурного слова, за исключением фразы «и немедленно выпил», но которые вопреки
добросовестным уведомлениям, сразу хватались за главу «Серп и молот –
Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы «и
немедленно выпил».
Надо отдать справедливость
гитисовцам – никто матерщину не выпячивал и ее в постановке не больше, чем в
поэме, а даже наоборот. Кроме того, почти дословно переданная ерофеевская
околесица выстроена в законченную историю, за рваными и грязными кружевами
которой видна горькая жизнь одинокого человека. Чувак несет в себе все прошлое
человечества, его наглый разум дотягивается до высших сфер, но это слишком
тяжелый багаж, чтобы таскать его по подмосковным электричкам. Среди осколков
сумбура сверкают истинные перлы, как история женщины с трудной судьбой.
Прекрасная в первоисточнике, на сцене она просто выносила мозг.
«Она и это выпила, и снова как-то машинально. А выпив, настежь
растворила свой рот и всем показала: «видите – четырех зубов не хватает?» – «да
где же зубы-то эти?» – «а кто их знает, где они. Я женщина грамотная, а вот
хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. А я слышу – у вас тут такой
литературный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и расскажу заодно,
как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба…»
все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает: «Мой
чудный взгляд тебя томил?» – я говорю: «Ну, допустим, томил…», а он опять за
икры: «В душе мой голос раздавался?» Тут он схватил меня в охапку и куда-то
поволок. А когда уже выволок – я ходила все дни сама не своя, все твердила:
«Пушкин – Евтюшкин – томил – раздавался». «Раздавался – томил – Евтюшкин –
Пушкин». А потом опять: «Пушкин – Евтюшкин…»
черноусый.
Да, с этого дня все шло так хорошо, целых полгода я с ним на сеновале бога
гневила, все шло хорошо! А потом этот Пушкин опять все напортил!.. Я ведь как
Жанна д’Арк. Та тоже – нет, чтобы коров пасти и жать хлеба – так она села на
лошадь и поскакала в Орлеан, на свою попу приключений искать. Вот так и я – как
немножко напьюсь, так сразу к нему подступаю: «А кто за тебя детишек будет
воспитывать? Пушкин, что ли?» а он огрызается: «Да каких там еще детишек? Ведь
детишек-то нет! Причем же тут Пушкин?» а я ему на это: «когда они будут,
детишки, поздно будет Пушкина вспоминать!»
ли?.. – а он – прямо весь бесится: «Уйди, Дарья, – кричит, –
уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» Я его ненавидела в эти
минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом –
все-таки ничего, опять любила, так любила, что по ночам просыпалась от этого…
«Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать будет? А? Пушкин?» он, как услышал
о Пушкине, весь почернел и затрясся: «пей, напивайся, но Пушкина не трогай!
Детишек не трогай! Пей все, пей мою кровь, но господа бога твоего не искушай!»
а я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок, а на
юге в то время осень была, и я ему вот что тогда заорала: «Уходи от меня,
душегуб, совсем от меня уходи! Обойдусь! Месяцок поблядую и под поезд брошусь!
А потом пойду в монастырь и схиму приму! Ты придешь ко мне прощенья просить, а
я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду поцарапаю,
собственным своим кукишем! Уходи!» а потом кричу: «ты хоть душу-то любишь во
мне? Душу – любишь?» а он весь трясется и чернеет: "сердцем, – орет, –
сердцем – да, сердцем люблю твою душу, но душою – нет, не люблю!"
И как-то дико, по-оперному рассмеялся, схватил меня, проломил мне череп
и уехал во Владимир-на-Клязьме. Зачем уехал? К кому уехал? Мое недоумение
разделила вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печи мне говорит: "Вот
видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего "я"!"
Да! А через месяц он вернулся. А я в это время пьяная была в дым, я как
увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами: «ага! –
закричала. – умотал во Владимир-на-Клязьме! А кто за тебя детишек…» а он –
не говоря ни слова – подошел, выбил мне четыре передних зуба и уехал в
Ростов-на-Дону, по путевке комсомола… Дело к обмороку, милый. Налей-ка еще
чуток…»
Мда. Я, честно не фанат Ерофеева,
чтобы пресечь недопонимания. Но повоторюсь – и в «Петушках» и в «Поступи
командора» определенно есть искры. При этом такие вещи сильно пропагандирвать и
обожествлять нельзя: всегда найдутся девушки и юноши, «не читающие предыдущие
главы» и выискивающие матерщину.
выходные ходить в театр мы зареклись, но змий-искуситель принял образ Рената
Вагифыча, позвонил мне в телефон и голосом Рената же Вагифыча сообщил, что
имеющиеся в его распоряжении два билета в Моссовет через два часа превратятся в
простые бумажки, а наши головы, если мы их не используем – в тыквы. Мы
переглянулись и с криком: «Не пропадать же щам!» ринулись в Моссовет.
кроватях вверх ногами не лежит и книжек не читает. На входе в Моссовет стоят
толстые бабищи, которые всеми силами доминируют над робкими посетителями:
— Ну не отводите вы взгляд, я же
ничего не прошу у вас, что за посетители такие, хосспаде! Возьмите же вы
бумажку эту, ничего же платить не надо!
Как мне об’яснила Анюта, бабищи
раздают завиральные бумажки с якобы нереальными скидками, пред’явив которые в
кассу можно получить билет по номинальной стоимости (сиречь безо всякого
дисконту).
Бабищи внутре театра
распространяют программки, уже за деньги. Очереди в гардероб, куча мужчин с
творческими космулями и женщин с прозрачными рукавами. Прозрачные рукава
настойчиво предпочитают толстые низкорослые тетки, не считаясь ни с чем. Видимо
– такова традиция – раз театр, значит – рукава.
Поход в большой-большой Моссовет
– это, бесспорно, событие и тут я говорю без всякого ерничанья. Портреты звезд
на стенах, прекрасный зал, крутой свет и костюмы. Вот только игра актеров
показалась нам пыльным партсобранием. Давали «Царство отца и сына» по Алексею
Толстому. Блеклые безбородые лесовики-боровики в роли бояр, ненатурально, как
на детском утреннике обсуждающие необходимость ставить нового царя или звать
старого. Типичный для современной традиции юродивый и старушечьи-истеричный
Иван Грозный.
Второй акт посвящен царству
«сына». Федора Иоанновича изображает Сухоруков. Его присутствие в постановке
очень порадовало теток с прозрачными рукавами. Игра в отзывах описывается как
«блестящая» и «выходящая из ряда». Именно Сухоруков достал нас больше всего.
Вышедший из небытия на гребне «Брата», он, судя по всему, решил всячески
откреститься от брутальности и криминала, сделав ставку на «духовность» и
«всепрощение». Большую часть своих слов он произносил ненатурально высоким
голосом с просительно-слезливыми нотами. Оно, может, так Федора Иоанновича
играть и следовает, но на тех же нотах он часто дает и телевизионные интервью. В
конце ему хлопали больше всех – зря он открещивается от славы Татарина.

горячие, играющие сейчас в перченых, современных пьесах, они ведь стремятся в большие
театры, в тот же Моссовет. Станут ли они потом такими же двухмерными, как
безбородые бояре? Или, что еще хуже, они пойдут по пути своего бывшего
сокурсника Звягинцева, давшего миру «Возвращение» и «Изгнание»?
Звягинцева, которого Лопахин обвинял в поверхностности — обладатель золотых
львов и орлов — максимально глубок. Глубина – основной образ и стиль работы
товарища. Из-под воды начинается «Возвращение», там же оно и заканчивается. Глубина
всячески усиливается суперглубокими взглядами Константина Лавроненко – человека
со стремящимся носом и подбородком, изображающего в обоих фильмах ужасно
харизматичного мушшину, которого хочется с ходу убить и больше к этой теме не
«Возвращаться». Но если «Возвращение» как-то оживляют два пацана и история про
лодку и остров, то «Изгнание» смотреть болезненно трудно (сравнение с шурупом в
ляжке так просто не приходит, знаете ли…). Пятиминутные сцены с участием одного
актера – это, решительно, находка! Тетка сидит и задумчиво грустит. Потом она встает
и задумчиво грустит стоя. Мужик спит, голова повернута влево. Должен же
Звягинцев показать, как спят мужики с головой, повернутой вправо? Мужик громко
сцыт в ведро: очень важный образ, не будь его, еще неизвестно, дали бы
Звягинцеву золотого льва. Ведь как иначе раскроешь глубину русской культуры и
традиционной христианской русской души? Ну и заунывная музыка, ответственного
за которую даже настойчиво суют в титры.
Сюжет вялый, тупой и томительный
как ночной кошмар после жирного ужина. Меня всегда это умиляет – зачем
экранизировать такое? Зачем портить «Служебный роман» и в миллионный раз
ставить «Графа Монте Кристо», когда есть миллионы интересных, острых, понятных,
живых и необычных историй?